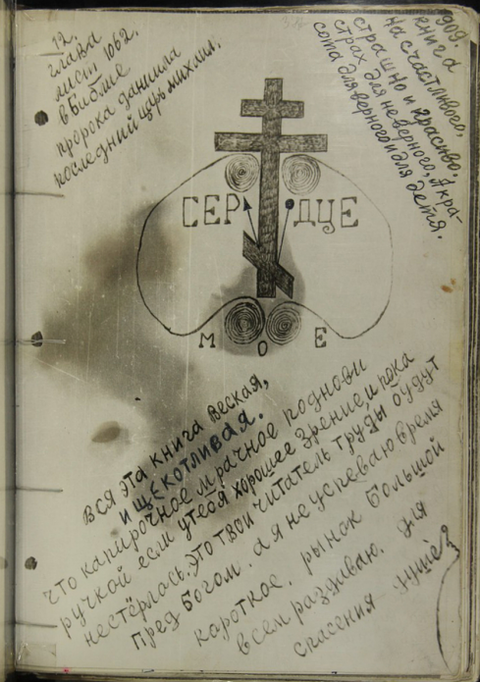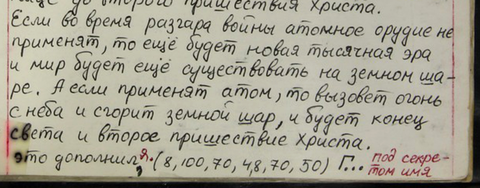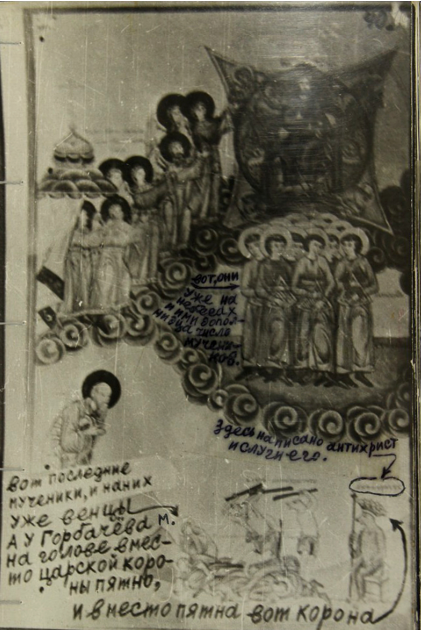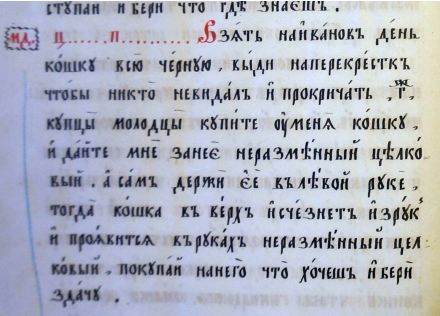Демонология как семиотическая система. Материалы V международной научной конференции. Москва, РГГУ, 24–26 мая 2018 г. / Сост. и ред. О.Б. Христофорова, Д.И. Антонов. М., 2018. – 196 с.
Демонологические представления – важная часть актуальной мифологии, существующая в разных культурах и во все эпохи. Цель конференции – исследование
демонологии как семиотической системы, функционирующей в устной традиции, книжности и иконографии, массовой культуре и постфольклоре.
Участники сборника материалов конференции рассматривают следующие проблемы: демонологические образы и представления в актуальной мифологии,
фольклоре и постфольклоре; демонологические темы в ритуалах и ритуализованном поведении; взаимоотношение и взаимовлияние церковной («ученой»,
«книжной») и народной демонологии, вернакулярные демонологические «концепции»; демонологические сюжеты в книжности и визуальной традиции; представления об одержимости и связанные с ними практики; вера в колдовство: общие модели и локальные контексты; демонологические модели в политикоидеологическом дискурсе и визуальной пропаганде; демонизация «другого»:
функции, риторика, социальные контексты.
Содержание
Александрова Е.В, Лаврентьева Н.В. Как есть и не быть съеденным
в ином мире ………………...……………………..…………………………..… 6
Антонов Д.И. Сатана на допросе, или Что рассказывает бес демоноборцу .…… 9
Арукаск М. Бес, трикстер и эстонский национальный нарратив …………....……11
Бакус Г.В. Инквизитор как проповедник. Злонамеренное колдовство
в проповедях Генриха Инститориса ……………..………………………..….. 14
Башарин П.В. Образ джиннов в мусульманской магии …………………………. 17
Башкатова А.Г. Демонологические мотивы в детективе:
главный герой – падший ангел или раскаявшийся бес? …………………….. 20
Боброва М.В., Русинова И.И. Функционирование демононимов в
мифологических текстах о людях со сверхъестественными свойствами
(по данным Пермского края) ………………………………………………….. 23
Буцких Н.В. Сирены, ехидны, кентавры: репрезентация античного бестиария
в древнерусских визуальных источниках …………………………………….. 29
Веселова И.С., Степанов А.В. Опыт по ролям: видевший, рассказавший,
узнавший ……………………………………………………………………….. 33
Виноградова Л.Н. «Где это видано, где это слыхано…»: сообщение о чем-то
абсурдном как способ защиты от ходячего покойника ……………………… 36
Герштейн А.Б. «Маг», «чернокнижник», «обольститель», «еретик»:
о демонизации образа лже-правителя в книжной культуре XIII–XIV вв. .…. 39
Гудков А.Г. Толковый Апокалипсис Иродиона Уральского:
об актуальной интерпретации лицевых изображений ……………………….. 42
Дулина А.М. Метаморфозы демонологической системы Японии после
монгольского нашествия конца XIII в. ……………………………………….. 52
Журавель О.Д. «Беснующийся недуг»: одержимость в сибирском
обществе XVIII в. ………………………………………………….………….... 53
Задоя К.С. Карпатские народные представления об эпидемиях ………………… 56
Зеленина Г.С. «Злобные, но бессильные». Отказники и советская власть:
взаимная демонизация и осмеяние ……………………………………………. 58
Иванова А.А. «Старая погудка на новый лад» (к проблеме реновации
локальных мифологических систем) ………………………………………….. 61
Ипполитова А.Б. Магия в травнике конца XIX в. из библиотеки Саратовского
университета (Собр. П.М. Мальцева, № 792) ………………………………… 68
Каспина М.М. Представления о домовом в еврейском фольклоре и книжности .. 72
Кикнадзе Д. Демонизация Китая японцами, или Народная версия исторических
событий в прозе сэцува ……………………………………………………….… 75
4
Королёва С.Ю., Шкураток Ю.А. Чудь и чуды: к проблеме соотношения
персонажей и их номинаций в коми-пермяцком фольклоре.…..…………….. 78
Кузнецова Е.А. Дело о кикиморе вятской: демонологический персонаж
и социальный контекст ……………………………………………………….… 84
Лазарева А.А. Домовой, ходячий покойник и покинувшая тело душа:
интерпретации сонного паралича в восточнославянской культуре …………. 94
Лобанова Л.С. Икота-шева в фольклорной традиции вишерских коми …………. 98
Лучицкая С.И. О некоторых принципах изображения пророка ислама
в средневековой иконографии XII–XIV вв. …………………………………... 101
Махов А.Е. Diabolus absconditus: эффект непредсказуемости в
постсредневековой иконографии демонического тела ………..…..……...…. 103
Миненок Е.В. Особенности систем мифологических персонажей в
переселенческих деревнях Восточной Сибири …………...…………………. 105
Мороз А.Б. Святке. Биография несуществующего демона ………………………. 108
Моррис М.-В.В. Борьба с грозовыми и градовыми тучами в Карпатском ареале
с точки зрения типологии мифологических персонажей ……………………. 110
Неклюдов С.Ю. Демонический антимир, или Империя зла ……………………… 113
Orschulko A. Contemporary Demons in Urban Côte d’Ivoire:
Perceptions of the Other and the Self in Questions of Public Health ……………. 118
Петров Н.В. Маленькие демоны: колдуны и их помощники в русских
мифологических рассказах …………………………………………....…..…… 119
Петрухин В.Я. Идолы, демоны и ритуальная коммуникация
(Скандинавия и Русь) ………………………………………………………...… 128
Попов М.А. Представления о водяных духах у чулымских тюрков
Тегульдетского района ……………………………………………………….… 131
Порфирьева С.И. Знак демона: о способе выражения магических действий
в лекции «О магическом искусстве» Франсиско де Витории ……………….. 134
Рахно К.Ю. Под сенью кровли: свес крыши как защита от демонов ……………..137
Рейфман Б.В. «Красота дьявола» как визуальная форма, создаваемая
и деконструируемая в фильме «Заводной апельсин» ……….……………….. 141
Сеитов Э.М. Исламизированный шаманизм у народов Средней Азии
в наши дни …………………………………………………………………….… 145
Сокаева Д.В., Барцыц М.М. Культы покровителя дома (Бынаты хицау) осетин
и Щашвы абхазов ………………………………………………………………. 148
Суриков И.Е. Демонология «Лягушек» Аристофана в историко-культурном
контексте ……………………………………………………………………...… 151
Тадевосян Т.В. Классификация демонов из армянской рукописи XVIII в.
«Семьдесят и два вопроса Соломона злобным дэвам» ………………………. 154
Тамбовцева С.Г. Колдовство у закавказских духоборцев:
и социально-психологические функции ……………………………………… 157
5
Тогоева О.И. «Чума на оба ваши дома!». Последствия Столетней войны
в трактате Flagellum maleficorum Пьера Мамори ………………………..… 160
Харман Д.Д. Рожающая демоница в церкви Сан Сальвадор в Сифуэнтес
(конец XIII в.) ………………………………………………………………… 162
Христофорова О.Б. ««Повесть о бесноватой Соломонии»: мифологические
параллели……………………………………………………………………… 167
Чумичева О.B. Демонизация идола как антитеза иконопочитания ……………. 171
Эивилер К. «Взято – проклято». Представления о скрытом сокровище:
мифические хранители и способы получения ……………………………… 173
Юша Ж.М. Мифологические персонажи Среднего мира в представлениях
тувинцев Китая и России …………………………………………………….. 176
Ясинская М.В. Демоны, заплетающие гривы лошадям, в славянской
народной традиции ………………………………………………...………..… 179
Сведения об авторах ……………………………………………………………….. 183
Е.В. Александрова, Н.В. Лаврентьева
Как есть и не быть съеденным в ином мире
Пропитание покойного в ином мире – центральная тема египетского
заупокойного культа, и поскольку наиболее ранние доступные нам корпусы
текстов ритуально-мифологического содержания относятся к этой сфере, не
удивительно, что их персонажи и события тесно связаны с темой приношений и
поглощения пищи. Это относится и к тем обитателям иного мира, которых с
определенными оговорками можно отнести к сфере демонологии. Так, в
«Текстах Саркофагов» формула «жить чем-то» может, с одной стороны,
относиться к обеспеченности покойного пищей иного мира, например: «Я буду
жить теми сладостными вещами, что исходят из святилища Ра» [CT 211]. С
другой стороны, так ведут себя агрессивно настроенные стражи порталов,
например: «Перевернутый-ликом... живет он уничтоженными, не знающими,
как пройти мимо» [CT 1108]. Основная забота покойного в путешествии по
иному миру – оказаться среди получателей жертв1 и при этом самому не
попасть на жертвенник, например: «Не пойман я для бойни божеской теми, что
при ножах, не буду я в качестве пищи их» [CT 407]. Упоминаемая бойня и
является источником тех самых приношений богам, с чьих жертвенников
рассчитывает питаться и сам покойный, например: «я – режущий, как тот, кто
дает пищу богам, кто режет скот для Владык Гелиополя» [CT 132]. Таким
образом, описанные с различной степенью подробности и с различных точек
зрения, способы получения пищи в ином мире уже в самых ранних комплексах
«Текстов Саркофагов», относящихся к I Переходному периоду (ок. 2118–1980
до н.э.), порождают многообразие персонажей и ситуаций, угрожающих
покойному. В более поздние эпохи эти персонажи и окружающее их
пространство с кипящими на кострах котлами будут приобретать все большее
сходство, например, с христианскими образами ада [Hornung 1994].
От эпохи Древнего царства (ок. 2543–2120 до н.э.) подобных текстов
меньше, но основные мотивы достаточно подробно раскрыты в так называемом
«Каннибальском гимне» [Faulkner 1924; Eyre 2002], вошедшем в первые два
комплекса «Текстов Пирамид» в гробницах фараонов Униса и Тети (ок. 2321–
2279 до н.э.). В нем фараон выступает, кроме прочего, как ««Владыка
приношений» (неб хотепу), связывающий веревки, обеспечивающий едой сам
себя <...> поедающий людей, живущий богами» [PT 273]. К этому агрессивному
проявлению в «Текстах Саркофагов» добавляется позитивная роль – подателя
жертв на Полях Иалу: «Да переправится N на Поля Иалу, чтобы получать там
жертвы ежедневно среди обладателей жертв по команде Великого Бога,
Владыки приношений» [CT 791]. Сравнение интерпретации образа «Владыки
приношений» в «Текстах Пирамид» и «Текстов Саркофагов» может приблизить
нас к пониманию природы этого разительного отличия.
Среди «Текстов Саркофагов» есть несколько изречений, текстуально
близких к «Каннибальскому гимну» (CT 132, CT 136, CT 334, CT 573) [Barta
_________________________________6
1 См. также [Чегодаев 2000] о различиях между пищей иного мира и жертвами из «мира
живых» в египетских заупокойных текстах.